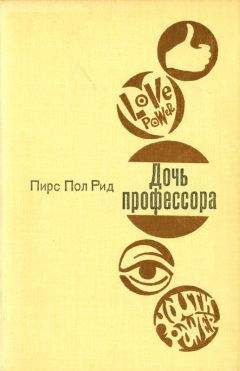Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]
— Остап Мироныч! — удивилась она подходящему к ней человеку в светлом штатском костюме, даже при галстуке. — Вы, Остап Мироныч?
— Я, я, Зинаида. — Седые, с просинью, волосы, обдавшие моложавое лицо, сдерживаемая грустинка в улыбающихся глазах. — Решила, значит?
Марийка вспомнила: Остап Мироныч из райкома. Когда мама окунулась в осоавиахимовские олимпиады, в ее рассказах часто мелькало это ими: Остап Миронович организовал, посоветовал, помог… Сейчас от его присутствия все как бы стало на место, упорядочилось. Марийка почувствовала: Остап Миронович и здесь что-то налаживает и организует.
— Муж на фронте?.. Хотя где же ему быть. — Он извинительно улыбнулся, тихо, с каким-то смыслом спросил: — Что слышно о Якове Ивановиче?
— Тоже там.
Марийка удивилась: Остап Миронович знает дядю Яшу?
— Да, да, конечно, где же быть и ему. — И Остап Миронович с сожалением добавил: — Нужна была бы ты здесь, Зина, во как! Но что делать. — Он посмотрел на Марийку. — Девочка у тебя на руках, риск опасен. Пошли.
Они протолкались к голове эшелона, там вагона три были закрыты, необычно глухи, около них не роились толпы эвакуирующихся.
В высоком, оплетенном проволокой окошке одного из вагонов виднелось улыбающееся детское личико. Мальчику было года четыре, не больше, и Марийка еще подумала: как он мог забраться так высоко. Мальчик улыбался ей ясными глазами, потом вдруг отвернулся, зачухыкал: «Чух! чух! чух! чух! чух!» — изображал идущий паровоз.
В этот вагон и постучал Остап Миронович:
— Марчук!
Внутри вагона лязгнуло, дверь покатилась вбок по железным пазам. В проеме стоял маленького роста человек, отирающий пот с совершенно голой головы, живот, обтянутый белой рубахой, как арбуз в мешке, переваливался через пестренький витой шнурок с кистями.
— Что закупорился, Марчук?
— Лезут, Остап Мироныч, а у меня груз государственный, сами знаете, — сипел хозяин вагона тонким бабьим голоском.
Из проема шел душный жаркий запах, за спиной Марчука почти до потолка вагона виднелись обернутые в бумагу плотные свертки. «Кожа», — безошибочно определила Марийка: так пах новый портфель, врученный ей после возвращения из Сыровцов. Сколько кожи! И там, наверху, у невидимого сейчас оконца, — мальчик. Как он терпит?
— Как вы тут терпите? — это озаботило и Остапа Мироновича.
— А что делать? — пожал Марчук круглыми плечами.
— Да, да. В дороге дверь откроете, пусть ветерком продувает. Сколько вас тут едет? Четверо. Еще дочь. — Около Марчука, прошуршав о свертки, появилась девушка лет шестнадцати, с помятым равнодушным лицом, очень похожим на отцовское.
— Так, так. А жинка где ж?
— За кипяточком побежала, — нервно зевнул Марчук и сунул пальцы под витой шнурок.
— Возьмете к себе еще женщину с дочкой. Марийка, кажется? — Он улыбнулся.
— Куда ж, Остап Мироныч? — взмолился Марчук, давно понявший, в чем дело. — Груз же государственный!
Остап Миронович недобро глянул на него.
— Отставить, Марчук! Ты на Урал катишь, а у нее вон, — он снова грустно улыбнулся Марийке, — батька немецкие танки рушит. Доставишь на место в целости и сохранности, понял?
Марчук бессильно передернул плечами, как бы снимая с себя ответственность за сохранность груза, пошарил за дверью и пристроил к вагону железную лесенку.
— Ну, с богом. — Остап Миронович подсадил Марийку, потом Зинаиду Тимофеевну, подал им узел с белыми ушками. — Дайте знать, как приедете… Если, конечно, будет куда писать, — тихо добавил он. — С богом. — И пошел прочь, затерялся на перроне в снующей толпе.
Тронулись уже за полдень.
В вагоне образовалось как бы два лагеря у двух небольших зарешеченных проволокой окошек. Душно, жарко пахло кожей. Зинаида Тимофеевна заикнулась было, чтоб Марчук открыл дверь, как советовал Остап Миронович, тот усмехнулся, обгладывая куриную ножку:
— Ха, дверь! А за государственный груз кто будет отвечать? Нынче удильщиков развелось — не дай бог. Моргнешь одним глазом — двух тюков недосчитаешься.
— Каких это удильщиков? — несмело переспросила Зинаида Тимофеевна.
— Таких. Не слыхала? Веревки с крючком-«кошкой» привяжут за столб, кинут в вагон — и поймали «рыбку». Что есть, то и летит из вагона. А тут, — Марчук озабоченно оглядел свое хозяйство, — груз! Кожа! Хром, шевро, опоек. Какой опоек! Мерея как у ребеночка, который из нутра. Дорог-о-й товарец! Дверь открывать. Откроешь!
Жинка Марчука, юркая, плотно сбитая, вместе с кипяточком принесла еще что-то, запеленутое, как заметила Марийка, в ту же, с черным шершавым подбоем, бумагу, которой были обтянуты тюки с кожей. Когда отъехали, семейство Марчука, заняв место у одного окошка и таким образом негласно отделив Марийке с Зинаидой Тимофеевной другое, в полулежачей позе расположилось вокруг свертка. Чего там только не было: курица, яйца, большая круглая хлебина домашней выпечки, целая груда комового сахара, даже литровая бутылка — без этикетки, заткнутая кукурузной кочерыжкой. Что-то тошнотно заныло в Марийке, когда она увидела, что все это было завернуто в ту же бумагу, что и кожи…
— Михасик! Ну, Михасик, ну поешь. Ну чего ты хочешь? Вот кура, вот яички. Хочешь, я тебе щиколадку достану.
Марчукова жинка тянула мальчика, он не шел, глядел большими глазами то на Марийку, то за окно.
— Нехай, захочет — сам запросит, — строго сказал Марчук. — Дорога-то, э-ге-ге, на край света, за-про-о-си-т. — Он успел налить из бутылки себе и жинке в граненые стаканы, они выпили за благополучное окончание дальней дороги, и Марчук неровно лепил губами слова.
Зинаида Тимофеевна, видно, тоже поняла что-то, касающееся снеди, завернутой в бумагу из-под кожи, обняла Марийку, и они лежали, глядя в окошко и стараясь не слышать лагерь Марчука.
Эшелон медленно вползал на мост — тот самый, скобки которого прорисовывались вдали, когда Марийка с отцом отплывала на Черторой. Колеса еле постукивали, темные косые фермы с жестким шорохом отсекали сине-коричневую холодную гладь Днепра, огнисто вспыхивающие купола Лавры над амфитеатрами подернутой первой желтизной чащи крутояра. На Марийку снова хлынул огромный ясный день поездки на Черторой…
— Михасик, оторвись от окна!..
…Огромный солнечный простор, будто заново родивший ее на свет…
— Ну что ты там не видел!? На тебе куру…
…И когда последняя ферма с ветряным шорохом ушла назад и Лавра прощально вознеслась над ширью Днепра, ее начала душить сухая, горькая спазма.
— Не надо, доченька. — Зинаида Тимофеевна прижимала лицо Марийки к своей груди. — Не надо, все будет хорошо.
Давний мамин запах обволакивал, успокаивал, в обступившем Марийку жестоком мире был у нее один приют, с этим родным запахом, и она затихла у теплого гнездышка, только что-то точащее обидную горечь не могло освободить ее грудь. Она снова посмотрела в окно. Лавры и Днепра уже не было, перед глазами проплывали длинные серые заборы, пустые бочки и ящики среди пыльного сухого двора, потом, резко отмеривая зачехленные брезентом платформы с одинокими фигурками бойцов, пронесся встречный эшелон, и еще с минуту слышно было эхо вихревого движения.
Миновали Дарницу с разрушенными вокзальными постройками — средь развалин торчали дула зениток, группками сидели бойцы, держа на коленях котелки… И все произошло за Дарницей, средь всхолмленного песчаного поля, поросшего молодым соснячком.
Резко, длинно, будто заело, провопил паровоз, жестко заскрипели тормоза, вагон забился, залязгал буферами между стеснившими его силами, Марийку, не находившую под собой опоры, поволокло вперед, и она ударилась о переднюю стенку. Вместе с проносящимся над эшелоном близким, вынимающим душу ревом точечно прошило крышу, брызнуло отслоенное дерево. Дико закричали жена и дочка Марчука. Марийка, которую все прижимало и прижимало к стене, видела, как Марчук поймал оторванного от окна ребенка, неуклюже переворачивался с ним, пытаясь удержаться на месте.
— Вниз, вниз! — визжал он в наступившей тишине — только все еще скрежетали тормоза. — Вниз! Вон! Вон из вагона!
Марийка не помнила, как они с матерью скатились к двери и кинулись из вагона. С насыпи в редкий сухой соснячок сыпались кричащие люди, но она не слышала их и опомнилась только в канаве, когда снова начал нарастать рев — оттуда, где слепяще полыхало предвечернее солнце. Его пламя стояло над высоко уходящей белой песчаной стеной, над черными вагонами, и из этого пламени, тоже черные, вырастали немые туши самолетов, насыпь вспухала и брызгала песком.
Но это все шло вне сознания Марийки, пока она не увидела ребенка, Михасика, и тут сквозь черный и огнистый цвета ей в глаза ударил еще один цвет — красный: вся насыпь была усеяна земляникой. Переспелые ягоды пучками свисали на топких былинках, и Михасик, упираясь ножками в сыпучий песок, распластавшись лягушонком на белой знойной стене, легко обирал их и совал в рот — пальчики ребенка были в красном соку. Марчук с жинкой, каким-то образом выпустившие его из рук, с запоздалым отчаянием кричали на него из канавы, звали, но он не слышал их, и младенческое личико выражало ясный восторг от этого ползания по горячему песку, где ягода сама просилась в рот.